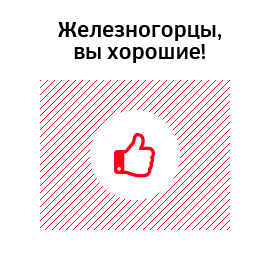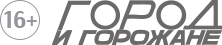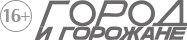Трудные дни военной контрразведки
На закрытом совещании 21 мая 1937 г. И.В. Сталин дал прямые указания наркомам Н.И. Ежову и К.Е. Ворошилову об усилении разведывательной и контрразведывательной работы спецслужб. «Необходимо полностью учесть урок сотрудничества с немцами, — говорил он. — Рапалло, тесные взаимоотношения создали иллюзию дружбы. Немцы же, оставаясь нашими врагами, лезли к нам и насадили свою сеть». В свете этих установок НКВД усилил борьбу с немецкой разведкой как в СССР, так и за рубежом. На этот участок были брошены лучшие силы советских спецслужб, которые, несмотря на сложности и перипетии того времени, все же сумели оградить армию и тыл от шпионских и диверсионных акций главного противника, получить достоверную информацию о его агрессивных планах, своевременно предупредить высшее руководство страны о надвигающейся опасности военного вторжения.
В конце 1930-х гг. Советский Союз решал сложные внешнеполитические задачи. В 1938-1940 гг. СССР участвовал в военных конфликтах с Японией на Дальнем Востоке, у озера Хасан и у реки Халхин-Гол, вел войну с Финляндией, ввел войска на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, в Прибалтику и Буковину. В результате была надежно обеспечена безопасность восточных границ Советского Союза, воссоединен ряд территорий, утраченных в период Гражданской войны.
При новом наркоме внутренних дел СССР Л.П. Берия (с конца 1938 г.) была осуществлена частичная амнистия и реабилитация оклеветанных чекистов. Многих из пострадавших стали возвращать в строй. Этот процесс не прекращался и в ходе войны. Одновременно проводились масштабные кадровые спецнаборы в органы НКВД. Необходимо было сохранить и передать опыт новым сотрудникам, тем более что угроза войны становилась все реальнее.
Смерть шпионам
Наступившая весна 1943 г. вселяла огромные надежды на победу над немецко-фашистскими захватчиками. Эти настроения передавались всему личному составу армии, флота и отечественных спецслужб.
Победа Красной Армии под Сталинградом в ходе ожесточенных боев в ноябре 1942 – феврале 1943 г. положила начало коренному перелому в войне. Стратегическая военная инициатива переходила к советским войскам, были созданы предпосылки для наступления по всему советско-германскому фронту и окончательному изгнанию захватчиков с оккупированной территории Советского Союза.
В свою очередь сталинградская катастрофа заставила немецких военнопленных и представителей сателлитов фашистской Германии, содержавшихся в советских лагерях, усомниться в победе вермахта. Многие из них, включая офицерский корпус, приняли предложения об участии в антифашистском движении.
Крепла уверенность в победе Советского Союза среди советских военнопленных и жителей оккупированных областей. После Сталинграда гражданское население, слишком хорошо познавшее жестокость «нового порядка», военнопленные, с которыми обращались как со скотом, все чаще соглашались на вербовку в «национальные легионы» и на службу в немецкой разведке только с той целью, чтобы любыми способами возвратиться к своим, а еще лучше – иметь реальную возможность сражаться с фашистами до победы. Таким образом, политическая и оперативная обстановка изменилась в пользу разведки и контрразведки СССР.
Военная контрразведка так же, как и армия, перехватывала стратегическую инициативу. По всем признакам в Лубянском доме в Москве чувствовалось, что в наркомате назревает реорганизация.
В прифронтовой полосе.
В качестве главного объекта своих устремлений спецслужбы фашистской Германии изначально рассматривали действующую Красную Армию. Немецкая военная разведка пыталась внедрять своих агентов как в процессе комплектования частей и соединений советских войск, так и путем вербовки отдельных военнослужащих Красной Армии, имевших доступ к секретной информации. Кроме того, активно проводились пропагандистские акции с целью разложения личного состава советских воинских частей, склонению красноармейцев к переходу на немецкую сторону или совершению иных враждебных действий.
В прифронтовую полосу и ближайший тыл Красной Армии агентура Абвера забрасывалась, как правило, сухопутным и воздушным путем. В качестве легенды использовались побег из плена, выход из окружения, возвращение из госпиталя, служебные командировки и т.д. Результаты работы особых отделов НКВД СССР и ГУКР «Смерш» НКО СССР свидетельствуют, что в 1941-1944 гг. от 55 до 65% всех вражеских агентов, выявленных органами госбезопасности СССР разоблачалось непосредственно в зоне боевых действий. В 1945 г. этот показатель достиг 88 %.
Совершенствование оперативной работы в прифронтовой полосе стало во время войны главной задачей советской военной контрразведки. Уже в первые дни после нападения фашистской Германии на Советский Союз директивами 3-го Управления НКО СССР органы безопасности в войсках были ориентированы на «своевременное вскрытие и ликвидацию агентуры противника по линии шпионажа, диверсии и террора, предотвращение случаев дезертирства и измены Родине, пресечение антисоветских проявлений и вражеской работы по разложению личного состава воинских частей, распространению контрреволюционных листовок, провокационных и панических слухов».
Особое внимание обращалось на работу в частях Красной Армии, действующих на фронтах. «Главной задачей особых отделов на период войны, – говорилось в Постановлении ГКО от 17 ию ля 1941 г. «О преобразовании органов 3-го Управления НКО СССР в особые отделы НКВД СССР», – считать решительную борьбу со шпионажем и предательством в частях Красной Армии и ликвидацию дезертирства непосредственно в прифронтовой полосе».
Однако в тяжелейших условиях начального периода войны обеспечить выполнение поставленных задач было крайне сложно, так как в особых отделах действующих частей и соединений ощущалась острая нехватка квалифицированной агентуры, имеющей опыт работы по выявлению вражеских шпионов, диверсантов, изменников Родине и дезертиров в боевых условиях. Вследствие колоссальных потерь Красной Армии имела место большая текучесть негласных сотрудников. Оперативным работникам приходилось принимать срочные меры к пополнению агентурной сети за счет военнослужащих, прибывших в армию по мобилизации, заново создавать свой осведомительный аппарат.
Все это не могло не сказаться на качестве розыскной работы. В директиве НКВД СССР № 66 от 20 февраля 1942 г. «Об усилении борьбы с подрывной деятельностью германской разведки» отмечалось, что «несмотря на увеличение в последние месяцы количества разоблаченных агентов, засылаемых к нам германскими разведывательными органами, работа по их выявлению, розыску и изъятию поставлена еще неудовлетворительно и ведется недостаточно успешно...» Особым отделам и оперативно-чекистским группам предлагалось «в прифронтовой полосе провести необходимые мероприятия, обеспечивающие задержание и тщательную фильтрацию всех без исключения лиц (в том числе женщин и детей), проходящих через линию фронта с территории противника... наладить такую организацию оперативно-розыскной работы, которая обеспечивала бы невозможность проникновения в штабы и другие органы управления Красной Армии и Флота агентуры германской разведки, своевременное разоблачение и изъятие такой агентуры».
Вместе с тем, несмотря на объективные трудности первого периода войны, органы военной контрразведки Действующей армии провели немало успешных розыскных мероприятий.
Так, Управлением особых отделов НКВД СССР и особым отделом Западного фронта в декабре 1941 – январе 1942 г. была арестована группа германских разведчиков из 13 человек. Она состояла из бывших пленных командиров и красноармейцев, которые под видом вышедших из окружения были переброшены из города Орла разведотделом 3-й бронетанковой группы немецких войск. Разведчики имели задание проникнуть в штабы и на командные должности в части Красной Армии, пробраться в Москву и установить оборонные заводы, работающие в городе, выявить места расположения складов с горючим, боеприпасами и продовольствием, а также схемы минирования дорог на подступах к столице.
3 января 1942 г. особым отделом НКВД Волховского фронта были арестованы некие Лобачевский, Афиногенов и Гурамишвили. Пройдя подготовку в немецкой разведшколе, они были переброшены через линию фронта из Новгорода под видом красноармейцев разбитой части. Задание – обследовать в районах городов Валдай, Вышний Волочек и Торжок состояние дорог, продвижение по ним войск, места концентрации частей Красной Армии и расположение дальнобойной артиллерии.
20 января 1942 г. особым отделом НКВД Западного фронта в городе Можайске ликвидируется резидентура немецкой разведки во главе с бывшим ветеринарным врачом. Оставленная при отходе частей вермахта, она должна была вести наблюдение за передвижением подразделений Красной Армии по Можайскому шоссе и передавать собранные сведения по радио.
7 марта 1942 г. в деревне Тростнянка, в районе боевых действий 61-й армии того же Западного фронта, была задержана группа активных агентов абвергруппы-107 при танковой армии генерала Гудериана. Она состояла из 22 военнопленных красноармейцев. Возглавлявший группу разведчиков бывший младший лейтенант Москалев получил от немцев задание вести наблюдение за передвижением советских воинских частей на участке фронта Сухиничи – Белево – Ульяново, выявлять места расположения штабов, передавая добытые сведения по рации.
Еще об одном типичном для начального периода войны эпизоде успешного разоблачения в ближайшем тылу Красной Армии вражеской агентуры вспоминал бывший сотрудник контрразведки «Смерш», впоследствии генерал-лейтенант Александр Иванович Матвеев: «После прорыва из окружения 25-26 мая 1942 года в районе города Изюма наша 99-я Краснознаменная стрелковая дивизия в начале июня была передислоцирована в город Балашов Саратовской области для получения пополнения. Оценивая складывающуюся обстановку, мы считали, что наш дальнейший путь лежит в Сталинград. К середине августа части дивизии значительно пополнили свои ряды, что обязывало оперативный состав особого отдела активизировать усилия по изучению вновь прибывших. Одновременно велась напряженная оперативная работа среди окружающего гражданского населения.
Первым тревожным сигналом о том, что части дивизии находятся под наблюдением агентуры противника, послужила бомбардировка немецкой авиацией складов материально-технического снабжения дивизии в Балашове. Как оказалось, во время налета очевидцы заметили несколько осветительных ракет, выпущенных в их направлении.
Принятыми мерами оперативного розыска особым отделом дивизии было установлено, что в одной из деревень, в трех километрах от города, появились двое военнослужащих, один в звании лейтенанта, а второй – рядовой. Оба устроились на жительство в частной квартире. Хозяйке дома они выдавали себя за военнослужащих 197-го стрелкового полка 99-й дивизии. Как показала проверка, по спискам военнослужащих полка эти люди не значились.
К дальнейшей работе мы привлекли хозяйку дома, которая сообщила, что ее постояльцы по ночам слушают радио. В этой связи в дом негласно был поселен наш радиоспециалист. Он вскоре установил, что ночью и в дневное время в соседней комнате на фоне музыки работает морзянка.
Война в эфире
Во время Второй мировой войны спецслужбы воюющих государств освоили новую сферу противоборства - радиоэфир. Наряду с боевыми действиями на суше, на море и в воздухе разгорелась настоящая битва в так называемом «четвертом измерении». Одним из новых направлений деятельности контрразведки стали радиоигры с разведкой противника. Для этого использовались захваченные на своей территории вражеские агенты, имевшие при себе портативные коротковолновые приемно-передающие рации. Вовлеченные в радиоигру арестованные агенты начинали работать под контролем контрразведывательных органов, систематически передавая противнику ложную информацию.
Немецкая контрразведка активно применяла этот новый вид деятельности против спецслужб СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции. Так, арестованный органами ГУКР «Смерш» в мае 1945 г. бывший начальник немецкой военной контрразведки (Абвер-3) генерал-лейтенант Франц фон Бентивеньи на допросе рассказал об «исключительно удачной радиоигре», которую Абвер-3 провел в Голландии. По его словам, «в конце 1942 г. в Голландии было арестовано 10 английских разведчиков, державших радиосвязь с Лондоном. Пять радистов были перевербованы, а на остальных пяти точках работали немецкие радисты, изучившие «почерк» англичан. Эта радиоигра продолжалась в течение всего 1943 г. В ходе нее было арестовано большое количество английских агентов и захвачено много сброшенного с самолетов вооружения, которого хватило бы на оснащение целой дивизии...».
Радиоигры со спецслужбами противника были взяты на вооружение и советскими контрразведывательными органами в лице НКВД и ГУКР «Смерш», которым удалось осуществить целый комплекс мер по стратегической дезинформации немецкой разведки и военного командования, перехвату каналов проникновения вражеской агентуры в тыл Красной Армии, внедрению своих зафронтовых агентов в разведывательно-диверсионные школы Абвера и «Цеппелина».
Всего за годы Великой Отечественной войны органами советской контрразведки было проведено 183 радиоигры с противником, ставших, по сути, единой «Большой игрой» в радиоэфире. На немецкие спецслужбы обрушилась масса умело подготовленной и выверенной дезинформации, значительно снизившей эффективность их работы. Упомянутый Франц фон Бентивеньи, в частности, отмечал: «По нашей оценке, исходя из опыта войны, мы считали советскую контрразведку чрезвычайно сильным и опасным врагом. По данным, которыми располагал Абвер, почти ни один заброшенный в тыл Красной Армии немецкий агент не избежал контроля со стороны советских органов, и в основной массе немецкая агентура была русскими арестована, а если возвращалась обратно, то зачастую была снабжена дезинформационным материалом».
В «войне в эфире» советские контрразведчики широко применяли новейшие оперативно-технические средства. Так, выявление вражеских агентов, снабженных радиостанциями, проводилось специальной радиоконтрразведывательной службой ГУКР «Смерш». Для фиксации работы агентурных радиостанций противника на территории, занятой советскими войсками, формировались специальные розыскные радиопеленгаторные группы. Работа радиоконтрразведывательной службы протекала в тесном контакте с другими оперативными подразделениями НКВД - НКГБ и органами военной контрразведки.
Советская контрразведка начала «войну в эфире» с германскими спецслужбами в 1942 г. Первое время на Лубянке эту работу вели сразу несколько подразделений: 4-е Управление под руководством П. А. Судоплатова, 1-й (немецкий) отдел 2-го Управления, возглавляемый П.П. Тимофеевым, в составе которого функционировало специальное отделение по радиоиграм (начальник Н.М. Ендаков), а также территориальные органы НКВД СССР.
С весны 1943 г. все радиоигры, кроме игр «Монастырь», «Курьеры», а затем и «Березино», оставленных за 4-м Управлением, были переданы в ведение Главного управления контрразведки «Смерш» НКО СССР. В новом ведомстве эту работу стал проводить 3-й отдел под руководством Владимира Яковлевича Барышникова. На протяжении всей войны радиоигры с немецкой разведкой готовили и вели ведущие оперативные сотрудники отдела: Д.П. Тарасов, Г.Ф. Григоренко, И.П. Лебедев, С. Елина, В. Фролов и др.
Организуя радиоигры, советская контрразведка ставила перед собой оперативную задачу — парализовать работу вражеских спецслужб, прежде всего Абвера и «Цеппелина», по основным линиям их деятельности:
ведение шпионажа в прифронтовой полосе и на главных транспортных коммуникациях страны (радиоигры «Опыт», «Загадка», «Находка», «Борисов», «Контролеры», «Лесники» и др.); стратегическая разведка в промышленных районах Урала, Сибири и Средней Азии (радиоигры «Фисгармония», «Дуэт», «Патриоты», «Тайник» и др.); проведение на территории СССР диверсий и террористических актов против военных, советских и партийных руководителей (радиоигры «Подрывники», «Десант», «Туман» и др.); создание в Советском Союзе так называемого «фронта сопротивления», или «пятой колонны», путем объединения различного рода антисоветских элементов и обеспечения их необходимым вооружением (радиоигры «Монастырь», «Янус» и др.); организация вооруженных выступлений против советской власти в национально-территориальных образованиях СССР (радиоигры «Арийцы», «Разгром», «Тростники» и др.).
Однако главной целью радиоигр стало оказание реальной помощи Красной Армии на полях сражений, что достигалось путем систематической передачи врагу военной дезинформации (радиоигры «Двина», «Узел», «Знакомые», «Развод», «Бурса», «Явка», «Танкист» и др.). Битва под Курском, Белорусская и Ясско-Кишиневская операции советских войск — вот далеко не полный перечень сражений, на исход которых в той или иной степени повлияла работа советских органов безопасности по дезинформации врага и обеспечению скрытности подготовки к наступлению.
Продвижение стратегической дезинформации в немецкие разведцентры сотрудники 3-го отдела ГУКР «Смерш» осуществляли в тесном контакте с руководством Генерального штаба РККА в лице АМ. Василевского, А.И. Антонова, С.М. Штеменко, а также начальника Разведывательного управления Красной Армии Ф.Ф. Кузнецова. Передача в эфир военной дезинформации проводилась только после утверждения Генеральным штабом текстов радиограмм, подготовленных контрразведчиками с учетом почерка каждого агента и легенды о его разведывательных возможностях. Специфические условия ведения радиоигр требовали от контрразведки также четкого и непрерывного взаимодействия со штабами и частями ПВО, которые давали ценную информацию о полетах вражеской авиации. Установление радиоконтакта с противником и дальнейшие оперативные мероприятия в ряде случаев позволяли вскрывать стратегические планы германского командования. Кроме того, в ходе радиоигр оперативники «Смерш» получали ценную информацию об особенностях работы немецкой разведки, способствовавшую более эффективной организации противодействия врагу. Тысячи обезвреженных немецких агентов- диверсантов, огромное количество оружия, тонны боеприпасов и взрывчатки, которые не выстрелили и не взорвались в советском тылу, десятки уничтоженных самолетов противника, попавших в засады, — таков далеко не полный объем ущерба, нанесенного врагу при помощи радиоигр. Во многом благодаря радиоиграм рухнули планы немецкой разведки по созданию антисоветского националистического подполья и «партизанских отрядов» в СССР, подготовке восстаний в глубоком тылу.
Каждая радиоигра, проведенная военной контрразведкой «Смерш», носила творческий, наступательный характер и являлась по-своему уникальной агентурной операцией с использованием широкого арсенала сил и средств оперативной деятельности. Вот лишь некоторые из них.
«Большое сито» военной контрразведки
По своим масштабам, размаху задействованных оперативных сил и средств оперативно-розыскная и следственная работа, проделанная органами советской военной контрразведки по фильтрации военнопленных вражеских армий в ходе и по окончании Второй мировой войны, не имеет аналогов в истории спецслужб мира.
Свыше 4 млн военнопленных прошло через «сито» проверок особых отделов и подразделений ГУКР «Смерш». В результате удалось выявить целую армию затаившихся кадровых сотрудников спецслужб противника и их агентов. Десятки тысяч военных преступников и нацистских пособников были изобличены и понесли справедливое наказание. Своевременно добывая через военнопленных ценную разведывательную информацию, контрразведчики «Смерш» внесли значительный вклад в успех ряда сражений советских войск.
Еще в самые первые дни войны органы НКВД предприняли попытку развернуть 30 приемных пунктов для военнопленных. Однако возможностей хватило только на 19, да и те пустовали. Воевать пришлось не там, где планировали, а на своей территории, ежедневно сдавая врагу города и села...
Тем не менее 1 июля 1941 г. СНК СССР утвердил «Положение о военнопленных», основные пункты которого соответствовали Женевской конвенции 1929 г. и гарантировали жизнь военнопленных, необходимое медицинское обслуживание и даже отдых. Однако требования этого положения, равно как и предыдущих приказов НКВД от 1940 г. № 0308 и № 00248, определявших порядок работы военнопленных на предприятиях Союза ССР, выполнять фактически было некем и нечем. Танковые клинья Гудериана и Готта разрывали на части оборону Красной Армии и неумолимо приближались к Москве. К концу августа свыше 1,5 млн советских военнослужащих оказались во вражеском плену.
Возмездие
С момента вторжения на территорию Советского Союза и продвижения немецко-фашистских войск в глубь страны началось ограбление и порабощение народов СССР. За 16 месяцев войны немцы оккупировали 1795 тысяч квадратных километров территории Союза с населением почти 80 миллионов человек. В захваченных районах оккупанты создали органы управления, которые при помощи карательных служб, полиции и так называемых органов «самоуправления» обеспечивали «новый порядок», т.е. осуществляли экономическое ограбление и геноцид местного населения.
Эту политику планировало имперское министерство оккупированных восточных областей — сокращенно восточное министерство. Оно было создано в соответствии с указом Гитлера от 17 июля 1941 г. во главе с А. Розенбергом. 27 июля 1942 г. в записке, специально подготовленной для фюрера, Розенберг писал: «Проблема Востока состоит в том, чтобы перевести балтийские народы на почву немецкой культуры и подготовить широко задуманные военные границы Германии. Задача Украины состоит в том, чтобы обеспечить продуктами питания Германию и Европу, а континент — сырьем. Задача Кавказа, прежде всего, является политической задачей и означает расширение континентальной Европы, руководимой Германией, от Кавказского перешейка на Ближний Восток».
С самого начала претворение в жизнь этих идей сопровождалось неслыханными ранее зверствами, истреблением населения, разрушением городов и сел, вывозом сырья, продовольствия, различных ценностей. В нарушение всех норм международного права распространялась практика жестокого обращения с военнопленными. В 1941-1942 гг. правительство СССР неоднократно выступало с декларациями и нотами Наркомата иностранных дел по поводу злодеяний и насилия захватчиков в отношении мирного населения и военнопленных, сообщения Совинформбюро также обращали внимание мировой общественности на эту проблему.
Все более актуальной становилась задача документирования преступной деятельности гитлеровского оккупационного режима, в том числе и по линии органов безопасности.
25 февраля 1942 г. Л.П. Берия подписал приказ о направлении материалов о зверствах немецко-фашистских захватчиков в Управление государственных архивов и его местные органы. Была выработана специальная Инструкция «О порядке собирания, учета и хранения документальных материалов о зверствах, разрушениях, грабежах и насилиях германских властей в оккупированных ими советских районах». Инструкция предусматривала концентрацию уликовых документов, включавших трофеи, кино- и фотоматериалы, письма, акты, свидетельские показания, протоколы допросов пленных немцев и пособников фашистов. Естественно, что такого рода документы, в первую очередь, попадали к партизанам, зафронтовым разведчикам и военным контрразведчикам на фронте. Эти материалы использовались органами безопасности в розыскной работе, а позднее и в подготовке суда над оккупантами и предателями в военных трибуналах и военно-полевых судах.
2 ноября 1942 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР». Ее возглавил первый секретарь ВЦСПС Н.М. Шверник. В состав комиссии вошли 40 человек из числа видных партийных и государственных работников, деятелей науки, культуры, церкви, здравоохранения. Среди них: академики Н.Н. Бурденко, Б.Е. Веденеев, И.П. Трайнин, Т.Д. Лысенко и Е.В. Тарле, секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Жданов, митрополит Киевский и Галицкий Николай, писатель А.Н. Толстой, летчица В.С. Гризодубова, архитекторы, врачи, артисты и др. По мере освобождения республик, краев, областей и городов создавались местные комиссии содействия ЧГК. На основании документальных и вещественных доказательств, показаний и заявлений свидетелей ЧГК готовила специальные акты и публиковала сообщения о злодеяниях, совершенных оккупантами на советской территории.
В 1943-1945 гг. советское руководство предприняло энергичные шаги по юридическому и политическому обеспечению мероприятий, связанных с акциями возмездия в отношении немецких военных преступников и их пособников из числа граждан СССР и других стран.
19 апреля 1943 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, который предусматривал суровые меры наказания в отношении лиц, причастных к злодеяниям и ущербу, нанесенному населению СССР и советским военнопленным. Его действие распространялось как на иностранных граждан, так и на граждан нашей страны, квалифицированных в ходе расследования в качестве пособников оккупантов и предателей. Указ применялся и на советской земле, и на территориях освобожденной Европы. Он служил правовой основой при рассмотрении дел на открытых судебных процессах 1943-1945 гг., а также на заседаниях военно-полевых судов, а с мая 1944 г. — и военных трибуналов.
Принципы преследования и наказания военных преступников были закреплены на встречах руководителей стран антигитлеровской коалиции, в частности, на Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в октябре 1943 г., на Крымской и Потсдамской конференциях соответственно в феврале и июле — августе 1945 г.
Поскольку выявление и разоблачение военных преступников и их пособников являлось одним из важнейших направлений деятельности военной контрразведки, она и взяла на себя инициативу по подготовке открытых процессов. Сотрудники особых отделов, а позднее и «Смерш», находившиеся в Действующей армии, вместе с войсками вступали в освобожденные районы и в числе первых становились свидетелями последствий ужасающих преступлений фашистов на временно оккупированных территориях. Многочисленные факты участия конкретных лиц в злодеяниях становились им известны также в ходе оперативно-розыскных мероприятий и очистки тыла наступающих частей Красной Армии.
Информация предоставлена Управлением ФСБ России по 12 Главному управлению Минобороны России
Фото из открытых источников
В конце 1930-х гг. Советский Союз решал сложные внешнеполитические задачи. В 1938-1940 гг. СССР участвовал в военных конфликтах с Японией на Дальнем Востоке, у озера Хасан и у реки Халхин-Гол, вел войну с Финляндией, ввел войска на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, в Прибалтику и Буковину. В результате была надежно обеспечена безопасность восточных границ Советского Союза, воссоединен ряд территорий, утраченных в период Гражданской войны.
При новом наркоме внутренних дел СССР Л.П. Берия (с конца 1938 г.) была осуществлена частичная амнистия и реабилитация оклеветанных чекистов. Многих из пострадавших стали возвращать в строй. Этот процесс не прекращался и в ходе войны. Одновременно проводились масштабные кадровые спецнаборы в органы НКВД. Необходимо было сохранить и передать опыт новым сотрудникам, тем более что угроза войны становилась все реальнее.
Смерть шпионам
Наступившая весна 1943 г. вселяла огромные надежды на победу над немецко-фашистскими захватчиками. Эти настроения передавались всему личному составу армии, флота и отечественных спецслужб.
Победа Красной Армии под Сталинградом в ходе ожесточенных боев в ноябре 1942 – феврале 1943 г. положила начало коренному перелому в войне. Стратегическая военная инициатива переходила к советским войскам, были созданы предпосылки для наступления по всему советско-германскому фронту и окончательному изгнанию захватчиков с оккупированной территории Советского Союза.
В свою очередь сталинградская катастрофа заставила немецких военнопленных и представителей сателлитов фашистской Германии, содержавшихся в советских лагерях, усомниться в победе вермахта. Многие из них, включая офицерский корпус, приняли предложения об участии в антифашистском движении.
Крепла уверенность в победе Советского Союза среди советских военнопленных и жителей оккупированных областей. После Сталинграда гражданское население, слишком хорошо познавшее жестокость «нового порядка», военнопленные, с которыми обращались как со скотом, все чаще соглашались на вербовку в «национальные легионы» и на службу в немецкой разведке только с той целью, чтобы любыми способами возвратиться к своим, а еще лучше – иметь реальную возможность сражаться с фашистами до победы. Таким образом, политическая и оперативная обстановка изменилась в пользу разведки и контрразведки СССР.
Военная контрразведка так же, как и армия, перехватывала стратегическую инициативу. По всем признакам в Лубянском доме в Москве чувствовалось, что в наркомате назревает реорганизация.
В прифронтовой полосе.
В качестве главного объекта своих устремлений спецслужбы фашистской Германии изначально рассматривали действующую Красную Армию. Немецкая военная разведка пыталась внедрять своих агентов как в процессе комплектования частей и соединений советских войск, так и путем вербовки отдельных военнослужащих Красной Армии, имевших доступ к секретной информации. Кроме того, активно проводились пропагандистские акции с целью разложения личного состава советских воинских частей, склонению красноармейцев к переходу на немецкую сторону или совершению иных враждебных действий.
В прифронтовую полосу и ближайший тыл Красной Армии агентура Абвера забрасывалась, как правило, сухопутным и воздушным путем. В качестве легенды использовались побег из плена, выход из окружения, возвращение из госпиталя, служебные командировки и т.д. Результаты работы особых отделов НКВД СССР и ГУКР «Смерш» НКО СССР свидетельствуют, что в 1941-1944 гг. от 55 до 65% всех вражеских агентов, выявленных органами госбезопасности СССР разоблачалось непосредственно в зоне боевых действий. В 1945 г. этот показатель достиг 88 %.
Совершенствование оперативной работы в прифронтовой полосе стало во время войны главной задачей советской военной контрразведки. Уже в первые дни после нападения фашистской Германии на Советский Союз директивами 3-го Управления НКО СССР органы безопасности в войсках были ориентированы на «своевременное вскрытие и ликвидацию агентуры противника по линии шпионажа, диверсии и террора, предотвращение случаев дезертирства и измены Родине, пресечение антисоветских проявлений и вражеской работы по разложению личного состава воинских частей, распространению контрреволюционных листовок, провокационных и панических слухов».
Особое внимание обращалось на работу в частях Красной Армии, действующих на фронтах. «Главной задачей особых отделов на период войны, – говорилось в Постановлении ГКО от 17 ию ля 1941 г. «О преобразовании органов 3-го Управления НКО СССР в особые отделы НКВД СССР», – считать решительную борьбу со шпионажем и предательством в частях Красной Армии и ликвидацию дезертирства непосредственно в прифронтовой полосе».
Однако в тяжелейших условиях начального периода войны обеспечить выполнение поставленных задач было крайне сложно, так как в особых отделах действующих частей и соединений ощущалась острая нехватка квалифицированной агентуры, имеющей опыт работы по выявлению вражеских шпионов, диверсантов, изменников Родине и дезертиров в боевых условиях. Вследствие колоссальных потерь Красной Армии имела место большая текучесть негласных сотрудников. Оперативным работникам приходилось принимать срочные меры к пополнению агентурной сети за счет военнослужащих, прибывших в армию по мобилизации, заново создавать свой осведомительный аппарат.
Все это не могло не сказаться на качестве розыскной работы. В директиве НКВД СССР № 66 от 20 февраля 1942 г. «Об усилении борьбы с подрывной деятельностью германской разведки» отмечалось, что «несмотря на увеличение в последние месяцы количества разоблаченных агентов, засылаемых к нам германскими разведывательными органами, работа по их выявлению, розыску и изъятию поставлена еще неудовлетворительно и ведется недостаточно успешно...» Особым отделам и оперативно-чекистским группам предлагалось «в прифронтовой полосе провести необходимые мероприятия, обеспечивающие задержание и тщательную фильтрацию всех без исключения лиц (в том числе женщин и детей), проходящих через линию фронта с территории противника... наладить такую организацию оперативно-розыскной работы, которая обеспечивала бы невозможность проникновения в штабы и другие органы управления Красной Армии и Флота агентуры германской разведки, своевременное разоблачение и изъятие такой агентуры».
Вместе с тем, несмотря на объективные трудности первого периода войны, органы военной контрразведки Действующей армии провели немало успешных розыскных мероприятий.
Так, Управлением особых отделов НКВД СССР и особым отделом Западного фронта в декабре 1941 – январе 1942 г. была арестована группа германских разведчиков из 13 человек. Она состояла из бывших пленных командиров и красноармейцев, которые под видом вышедших из окружения были переброшены из города Орла разведотделом 3-й бронетанковой группы немецких войск. Разведчики имели задание проникнуть в штабы и на командные должности в части Красной Армии, пробраться в Москву и установить оборонные заводы, работающие в городе, выявить места расположения складов с горючим, боеприпасами и продовольствием, а также схемы минирования дорог на подступах к столице.
3 января 1942 г. особым отделом НКВД Волховского фронта были арестованы некие Лобачевский, Афиногенов и Гурамишвили. Пройдя подготовку в немецкой разведшколе, они были переброшены через линию фронта из Новгорода под видом красноармейцев разбитой части. Задание – обследовать в районах городов Валдай, Вышний Волочек и Торжок состояние дорог, продвижение по ним войск, места концентрации частей Красной Армии и расположение дальнобойной артиллерии.
20 января 1942 г. особым отделом НКВД Западного фронта в городе Можайске ликвидируется резидентура немецкой разведки во главе с бывшим ветеринарным врачом. Оставленная при отходе частей вермахта, она должна была вести наблюдение за передвижением подразделений Красной Армии по Можайскому шоссе и передавать собранные сведения по радио.
7 марта 1942 г. в деревне Тростнянка, в районе боевых действий 61-й армии того же Западного фронта, была задержана группа активных агентов абвергруппы-107 при танковой армии генерала Гудериана. Она состояла из 22 военнопленных красноармейцев. Возглавлявший группу разведчиков бывший младший лейтенант Москалев получил от немцев задание вести наблюдение за передвижением советских воинских частей на участке фронта Сухиничи – Белево – Ульяново, выявлять места расположения штабов, передавая добытые сведения по рации.
Еще об одном типичном для начального периода войны эпизоде успешного разоблачения в ближайшем тылу Красной Армии вражеской агентуры вспоминал бывший сотрудник контрразведки «Смерш», впоследствии генерал-лейтенант Александр Иванович Матвеев: «После прорыва из окружения 25-26 мая 1942 года в районе города Изюма наша 99-я Краснознаменная стрелковая дивизия в начале июня была передислоцирована в город Балашов Саратовской области для получения пополнения. Оценивая складывающуюся обстановку, мы считали, что наш дальнейший путь лежит в Сталинград. К середине августа части дивизии значительно пополнили свои ряды, что обязывало оперативный состав особого отдела активизировать усилия по изучению вновь прибывших. Одновременно велась напряженная оперативная работа среди окружающего гражданского населения.
Первым тревожным сигналом о том, что части дивизии находятся под наблюдением агентуры противника, послужила бомбардировка немецкой авиацией складов материально-технического снабжения дивизии в Балашове. Как оказалось, во время налета очевидцы заметили несколько осветительных ракет, выпущенных в их направлении.
Принятыми мерами оперативного розыска особым отделом дивизии было установлено, что в одной из деревень, в трех километрах от города, появились двое военнослужащих, один в звании лейтенанта, а второй – рядовой. Оба устроились на жительство в частной квартире. Хозяйке дома они выдавали себя за военнослужащих 197-го стрелкового полка 99-й дивизии. Как показала проверка, по спискам военнослужащих полка эти люди не значились.
К дальнейшей работе мы привлекли хозяйку дома, которая сообщила, что ее постояльцы по ночам слушают радио. В этой связи в дом негласно был поселен наш радиоспециалист. Он вскоре установил, что ночью и в дневное время в соседней комнате на фоне музыки работает морзянка.
Война в эфире
Во время Второй мировой войны спецслужбы воюющих государств освоили новую сферу противоборства - радиоэфир. Наряду с боевыми действиями на суше, на море и в воздухе разгорелась настоящая битва в так называемом «четвертом измерении». Одним из новых направлений деятельности контрразведки стали радиоигры с разведкой противника. Для этого использовались захваченные на своей территории вражеские агенты, имевшие при себе портативные коротковолновые приемно-передающие рации. Вовлеченные в радиоигру арестованные агенты начинали работать под контролем контрразведывательных органов, систематически передавая противнику ложную информацию.
Немецкая контрразведка активно применяла этот новый вид деятельности против спецслужб СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции. Так, арестованный органами ГУКР «Смерш» в мае 1945 г. бывший начальник немецкой военной контрразведки (Абвер-3) генерал-лейтенант Франц фон Бентивеньи на допросе рассказал об «исключительно удачной радиоигре», которую Абвер-3 провел в Голландии. По его словам, «в конце 1942 г. в Голландии было арестовано 10 английских разведчиков, державших радиосвязь с Лондоном. Пять радистов были перевербованы, а на остальных пяти точках работали немецкие радисты, изучившие «почерк» англичан. Эта радиоигра продолжалась в течение всего 1943 г. В ходе нее было арестовано большое количество английских агентов и захвачено много сброшенного с самолетов вооружения, которого хватило бы на оснащение целой дивизии...».
Радиоигры со спецслужбами противника были взяты на вооружение и советскими контрразведывательными органами в лице НКВД и ГУКР «Смерш», которым удалось осуществить целый комплекс мер по стратегической дезинформации немецкой разведки и военного командования, перехвату каналов проникновения вражеской агентуры в тыл Красной Армии, внедрению своих зафронтовых агентов в разведывательно-диверсионные школы Абвера и «Цеппелина».
Всего за годы Великой Отечественной войны органами советской контрразведки было проведено 183 радиоигры с противником, ставших, по сути, единой «Большой игрой» в радиоэфире. На немецкие спецслужбы обрушилась масса умело подготовленной и выверенной дезинформации, значительно снизившей эффективность их работы. Упомянутый Франц фон Бентивеньи, в частности, отмечал: «По нашей оценке, исходя из опыта войны, мы считали советскую контрразведку чрезвычайно сильным и опасным врагом. По данным, которыми располагал Абвер, почти ни один заброшенный в тыл Красной Армии немецкий агент не избежал контроля со стороны советских органов, и в основной массе немецкая агентура была русскими арестована, а если возвращалась обратно, то зачастую была снабжена дезинформационным материалом».
В «войне в эфире» советские контрразведчики широко применяли новейшие оперативно-технические средства. Так, выявление вражеских агентов, снабженных радиостанциями, проводилось специальной радиоконтрразведывательной службой ГУКР «Смерш». Для фиксации работы агентурных радиостанций противника на территории, занятой советскими войсками, формировались специальные розыскные радиопеленгаторные группы. Работа радиоконтрразведывательной службы протекала в тесном контакте с другими оперативными подразделениями НКВД - НКГБ и органами военной контрразведки.
Советская контрразведка начала «войну в эфире» с германскими спецслужбами в 1942 г. Первое время на Лубянке эту работу вели сразу несколько подразделений: 4-е Управление под руководством П. А. Судоплатова, 1-й (немецкий) отдел 2-го Управления, возглавляемый П.П. Тимофеевым, в составе которого функционировало специальное отделение по радиоиграм (начальник Н.М. Ендаков), а также территориальные органы НКВД СССР.
С весны 1943 г. все радиоигры, кроме игр «Монастырь», «Курьеры», а затем и «Березино», оставленных за 4-м Управлением, были переданы в ведение Главного управления контрразведки «Смерш» НКО СССР. В новом ведомстве эту работу стал проводить 3-й отдел под руководством Владимира Яковлевича Барышникова. На протяжении всей войны радиоигры с немецкой разведкой готовили и вели ведущие оперативные сотрудники отдела: Д.П. Тарасов, Г.Ф. Григоренко, И.П. Лебедев, С. Елина, В. Фролов и др.
Организуя радиоигры, советская контрразведка ставила перед собой оперативную задачу — парализовать работу вражеских спецслужб, прежде всего Абвера и «Цеппелина», по основным линиям их деятельности:
ведение шпионажа в прифронтовой полосе и на главных транспортных коммуникациях страны (радиоигры «Опыт», «Загадка», «Находка», «Борисов», «Контролеры», «Лесники» и др.); стратегическая разведка в промышленных районах Урала, Сибири и Средней Азии (радиоигры «Фисгармония», «Дуэт», «Патриоты», «Тайник» и др.); проведение на территории СССР диверсий и террористических актов против военных, советских и партийных руководителей (радиоигры «Подрывники», «Десант», «Туман» и др.); создание в Советском Союзе так называемого «фронта сопротивления», или «пятой колонны», путем объединения различного рода антисоветских элементов и обеспечения их необходимым вооружением (радиоигры «Монастырь», «Янус» и др.); организация вооруженных выступлений против советской власти в национально-территориальных образованиях СССР (радиоигры «Арийцы», «Разгром», «Тростники» и др.).
Однако главной целью радиоигр стало оказание реальной помощи Красной Армии на полях сражений, что достигалось путем систематической передачи врагу военной дезинформации (радиоигры «Двина», «Узел», «Знакомые», «Развод», «Бурса», «Явка», «Танкист» и др.). Битва под Курском, Белорусская и Ясско-Кишиневская операции советских войск — вот далеко не полный перечень сражений, на исход которых в той или иной степени повлияла работа советских органов безопасности по дезинформации врага и обеспечению скрытности подготовки к наступлению.
Продвижение стратегической дезинформации в немецкие разведцентры сотрудники 3-го отдела ГУКР «Смерш» осуществляли в тесном контакте с руководством Генерального штаба РККА в лице АМ. Василевского, А.И. Антонова, С.М. Штеменко, а также начальника Разведывательного управления Красной Армии Ф.Ф. Кузнецова. Передача в эфир военной дезинформации проводилась только после утверждения Генеральным штабом текстов радиограмм, подготовленных контрразведчиками с учетом почерка каждого агента и легенды о его разведывательных возможностях. Специфические условия ведения радиоигр требовали от контрразведки также четкого и непрерывного взаимодействия со штабами и частями ПВО, которые давали ценную информацию о полетах вражеской авиации. Установление радиоконтакта с противником и дальнейшие оперативные мероприятия в ряде случаев позволяли вскрывать стратегические планы германского командования. Кроме того, в ходе радиоигр оперативники «Смерш» получали ценную информацию об особенностях работы немецкой разведки, способствовавшую более эффективной организации противодействия врагу. Тысячи обезвреженных немецких агентов- диверсантов, огромное количество оружия, тонны боеприпасов и взрывчатки, которые не выстрелили и не взорвались в советском тылу, десятки уничтоженных самолетов противника, попавших в засады, — таков далеко не полный объем ущерба, нанесенного врагу при помощи радиоигр. Во многом благодаря радиоиграм рухнули планы немецкой разведки по созданию антисоветского националистического подполья и «партизанских отрядов» в СССР, подготовке восстаний в глубоком тылу.
Каждая радиоигра, проведенная военной контрразведкой «Смерш», носила творческий, наступательный характер и являлась по-своему уникальной агентурной операцией с использованием широкого арсенала сил и средств оперативной деятельности. Вот лишь некоторые из них.
«Большое сито» военной контрразведки
По своим масштабам, размаху задействованных оперативных сил и средств оперативно-розыскная и следственная работа, проделанная органами советской военной контрразведки по фильтрации военнопленных вражеских армий в ходе и по окончании Второй мировой войны, не имеет аналогов в истории спецслужб мира.
Свыше 4 млн военнопленных прошло через «сито» проверок особых отделов и подразделений ГУКР «Смерш». В результате удалось выявить целую армию затаившихся кадровых сотрудников спецслужб противника и их агентов. Десятки тысяч военных преступников и нацистских пособников были изобличены и понесли справедливое наказание. Своевременно добывая через военнопленных ценную разведывательную информацию, контрразведчики «Смерш» внесли значительный вклад в успех ряда сражений советских войск.
Еще в самые первые дни войны органы НКВД предприняли попытку развернуть 30 приемных пунктов для военнопленных. Однако возможностей хватило только на 19, да и те пустовали. Воевать пришлось не там, где планировали, а на своей территории, ежедневно сдавая врагу города и села...
Тем не менее 1 июля 1941 г. СНК СССР утвердил «Положение о военнопленных», основные пункты которого соответствовали Женевской конвенции 1929 г. и гарантировали жизнь военнопленных, необходимое медицинское обслуживание и даже отдых. Однако требования этого положения, равно как и предыдущих приказов НКВД от 1940 г. № 0308 и № 00248, определявших порядок работы военнопленных на предприятиях Союза ССР, выполнять фактически было некем и нечем. Танковые клинья Гудериана и Готта разрывали на части оборону Красной Армии и неумолимо приближались к Москве. К концу августа свыше 1,5 млн советских военнослужащих оказались во вражеском плену.
Возмездие
С момента вторжения на территорию Советского Союза и продвижения немецко-фашистских войск в глубь страны началось ограбление и порабощение народов СССР. За 16 месяцев войны немцы оккупировали 1795 тысяч квадратных километров территории Союза с населением почти 80 миллионов человек. В захваченных районах оккупанты создали органы управления, которые при помощи карательных служб, полиции и так называемых органов «самоуправления» обеспечивали «новый порядок», т.е. осуществляли экономическое ограбление и геноцид местного населения.
Эту политику планировало имперское министерство оккупированных восточных областей — сокращенно восточное министерство. Оно было создано в соответствии с указом Гитлера от 17 июля 1941 г. во главе с А. Розенбергом. 27 июля 1942 г. в записке, специально подготовленной для фюрера, Розенберг писал: «Проблема Востока состоит в том, чтобы перевести балтийские народы на почву немецкой культуры и подготовить широко задуманные военные границы Германии. Задача Украины состоит в том, чтобы обеспечить продуктами питания Германию и Европу, а континент — сырьем. Задача Кавказа, прежде всего, является политической задачей и означает расширение континентальной Европы, руководимой Германией, от Кавказского перешейка на Ближний Восток».
С самого начала претворение в жизнь этих идей сопровождалось неслыханными ранее зверствами, истреблением населения, разрушением городов и сел, вывозом сырья, продовольствия, различных ценностей. В нарушение всех норм международного права распространялась практика жестокого обращения с военнопленными. В 1941-1942 гг. правительство СССР неоднократно выступало с декларациями и нотами Наркомата иностранных дел по поводу злодеяний и насилия захватчиков в отношении мирного населения и военнопленных, сообщения Совинформбюро также обращали внимание мировой общественности на эту проблему.
Все более актуальной становилась задача документирования преступной деятельности гитлеровского оккупационного режима, в том числе и по линии органов безопасности.
25 февраля 1942 г. Л.П. Берия подписал приказ о направлении материалов о зверствах немецко-фашистских захватчиков в Управление государственных архивов и его местные органы. Была выработана специальная Инструкция «О порядке собирания, учета и хранения документальных материалов о зверствах, разрушениях, грабежах и насилиях германских властей в оккупированных ими советских районах». Инструкция предусматривала концентрацию уликовых документов, включавших трофеи, кино- и фотоматериалы, письма, акты, свидетельские показания, протоколы допросов пленных немцев и пособников фашистов. Естественно, что такого рода документы, в первую очередь, попадали к партизанам, зафронтовым разведчикам и военным контрразведчикам на фронте. Эти материалы использовались органами безопасности в розыскной работе, а позднее и в подготовке суда над оккупантами и предателями в военных трибуналах и военно-полевых судах.
2 ноября 1942 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР». Ее возглавил первый секретарь ВЦСПС Н.М. Шверник. В состав комиссии вошли 40 человек из числа видных партийных и государственных работников, деятелей науки, культуры, церкви, здравоохранения. Среди них: академики Н.Н. Бурденко, Б.Е. Веденеев, И.П. Трайнин, Т.Д. Лысенко и Е.В. Тарле, секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Жданов, митрополит Киевский и Галицкий Николай, писатель А.Н. Толстой, летчица В.С. Гризодубова, архитекторы, врачи, артисты и др. По мере освобождения республик, краев, областей и городов создавались местные комиссии содействия ЧГК. На основании документальных и вещественных доказательств, показаний и заявлений свидетелей ЧГК готовила специальные акты и публиковала сообщения о злодеяниях, совершенных оккупантами на советской территории.
В 1943-1945 гг. советское руководство предприняло энергичные шаги по юридическому и политическому обеспечению мероприятий, связанных с акциями возмездия в отношении немецких военных преступников и их пособников из числа граждан СССР и других стран.
19 апреля 1943 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, который предусматривал суровые меры наказания в отношении лиц, причастных к злодеяниям и ущербу, нанесенному населению СССР и советским военнопленным. Его действие распространялось как на иностранных граждан, так и на граждан нашей страны, квалифицированных в ходе расследования в качестве пособников оккупантов и предателей. Указ применялся и на советской земле, и на территориях освобожденной Европы. Он служил правовой основой при рассмотрении дел на открытых судебных процессах 1943-1945 гг., а также на заседаниях военно-полевых судов, а с мая 1944 г. — и военных трибуналов.
Принципы преследования и наказания военных преступников были закреплены на встречах руководителей стран антигитлеровской коалиции, в частности, на Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в октябре 1943 г., на Крымской и Потсдамской конференциях соответственно в феврале и июле — августе 1945 г.
Поскольку выявление и разоблачение военных преступников и их пособников являлось одним из важнейших направлений деятельности военной контрразведки, она и взяла на себя инициативу по подготовке открытых процессов. Сотрудники особых отделов, а позднее и «Смерш», находившиеся в Действующей армии, вместе с войсками вступали в освобожденные районы и в числе первых становились свидетелями последствий ужасающих преступлений фашистов на временно оккупированных территориях. Многочисленные факты участия конкретных лиц в злодеяниях становились им известны также в ходе оперативно-розыскных мероприятий и очистки тыла наступающих частей Красной Армии.
Информация предоставлена Управлением ФСБ России по 12 Главному управлению Минобороны России
Фото из открытых источников
Важно
Железногорцев приглашают проголосовать за благоустройство
Программа праздничных мероприятий в День Победы
Внимание! С 1 мая в Железногорске начинает действовать особый противопожарный режим
Осторожно, опасный лед
Государственные инспекторы Железногорского инспекторского участка ГИМС напоминают о правилах безопасности на водоемах в весенний период.
Волонтеры будут помогать жителям голосовать